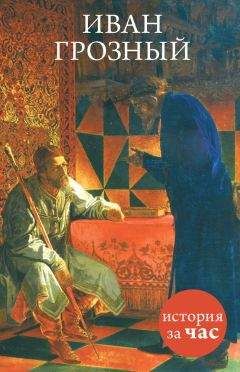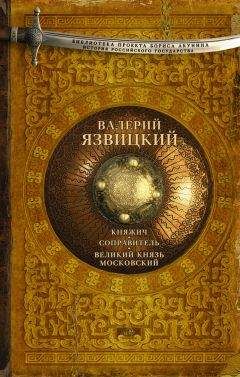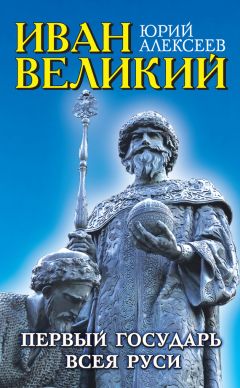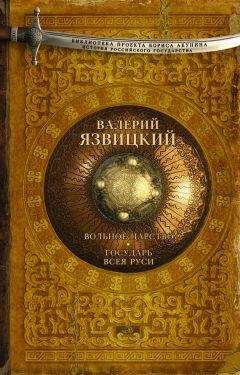Жозеф Рони-старший - Красный вал [Красный прибой]
Где бы они ни зародились, — у рабочих станков, на митинге, или во время бунта, интересы общие всегда должны противоставляться личным, интересы эксплоатируемого — интересам эксплоататора.
Синдикаты уже работали в этом направлении, но вяло. Они работали в одиночку и потому мало чего достигали. В идеале надо стремиться к тому, чтобы об'единить их в целое сословие, в целую, так сказать, особую нацию, особый народ, рабочий народ, который будет иметь свои порядки, свои стремления и требования и будет развиваться вне парламента и стоять выше его.
И вот Франсуа Ружмон весь отдался Конфедерации труда. Отдался со всеми своими радостями и горестями, негодованиями и возмущениями и даже сердечными увлечениями, которые у него всегда кончались крахом. Никогда еще социалистические догматы не встречали в народе такой активности, такого глубокого проникновения в самую душу. В то время на конгрессах в Туре, в Тулузе, в Ренн, в Париже, в Лионе, в Монпелье и Бурж вырабатывались основы кодекса Конфедерации, поднялась небывалая волна проповедничества. Работали, с своей стороны, и анархисты, и коллективисты, подливая масла в угасавший огонь.
Полный своей мечтой Ружмон проповедывал свои идеи, как фанатик. Он был в плеяде агитаторов, наводнивших департамент Ионн. Он забирался в самые глухие места, он увлекал рекрутов, укрывал дезертиров и проповедывал антимилитаризм чуть ли не у самых дверей казармы. И все больше и больше находил он доводов для того, чтобы покончить с этой "старой похотливой куртизанкой" и "ужасной клоакой, где процветает пьянство, воровство, шпионаж и подлость".
— Для того, кто любит человечество, мы живем в прекрасное время, — помолчав, сказал Ружмон.
Чайник навевал какое-то мечтательное сумеречное настроение.
Все четверо любовались мягким чарующим светом звезд.
— Значит, ты доволен и счастлив? — спросил Шарль.
— Я редко чувствую себя несчастным. Даже, когда сержусь и возмущаюсь, мне все на пользу. Связать свою судьбу с угнетенными — вовсе не такое невыгодное дело, потому что в заботах о них, забываешь свои личные, мелкие обыденные неприятности.
— Однако нельзя же отрицать личность? — заметил Гарриг.
— А кто же отрицает? Но до сих пор личность развивалась в обществе, где можно только подчинять или подчиняться. Когда же свобода и обязательства будут правильно распределены, и личность будет развиваться свободно. Конечно, коммунизм налагает большие обязательства и во многом ограничивает, но за то какой настанет умственный расцвет, какое великолепие, какая красота!
Тетка, не торопясь, разлила чай.
— Я надеюсь, ты пробудешь в Париже хоть несколько месяцев, — сказала она.
— Да, чтобы пожить с вами в родном углу. Здесь мысли получают новую окраску, в провинции они становятся бледными, как случайно выросший в подвале цикорий. Мне хочется заняться пропагандой в предместьи. Мне сегодня показалось, что почва там благодарная, — и он протянул руку к открытому окну, как бы указывая на сиявший на темном небе млечный путь… Сойка затараторила:
— Кто хочет лаванды… свежей лаванды.
Послышались шаги на лестнице и кто-то тихонько постучал в дверь. Тетка Антуанетта открыла дверь, и в комнату вошла девушка или женщина в легкой ярко-красной, как лепестки мака, развевающейся блузке.
— Кофе от Жуга и корица и шоколад от Плантера, — весело сказала она.
— Зайдите на минутку, — сказала старая Антуанетта, принимая пакеты, — взгляните на нашего красного зверя, если не боитесь, что он вас растерзает.
Ружмон обратил к вошедшей свое бородатое лицо. Она сделала несколько шагов, тихо шурша юбками и чуть поскрипывая сапожками. Пышная копна ее волос, цвета маиса или спелого колоса, местами отливала ярким отблеском зажженного факела. Ее ярко-красный влажный рот был похож на дикую альпийскую розу, линии шеи говорили о силе и чувственности. С нею вместе вошла извечная мечта мужчины, мед и молоко Рамаяны, сама Иллиада, Песнь Песней, весна лесов и полей, кочевой палатки и отделанных кедровым деревом покоев. Большая, статная, гибкая, она ступала смелым решительным шагом. Она подошла ближе. Лицо ее здоровое и свежее поражало нежностью кожи цвета перламутра и розовым оттенком вьюнка. В ее горящих черных глазах, из-под густых ресниц, сверкали изумрудные и медные огоньки, все в ней говорило о чистой крестьянской крови, о младенческой свежести и здоровом темпераменте счастливой и гордой женщины.
Взгляд ее остановился на Франсуа со спокойным любопытством. На этот вызов он ответил взглядом, полным благосклонности. Она замерла на месте и не отвела своих глаз. Их взгляды скрестились; она сделала насмешливую гримасу и сказала с чуть хриплым смехом:
— Это-то красный зверь?
— Да, это и есть наш красный зверь, — серьезно ответила Антуанетта.
— Вид у него не очень страшный, у вашего красного зверя.
Легкий порыв ветра из открытого окна заколебал пламя лампы, запрыгали тени, аромат ночи смешался с запахом жасмина у алого корсажа. Все было напоено смутной беспредельной нежностью. Ружмон вздрогнул, охваченный непонятным волнением.
— Да, — продолжала старуха, — это мой племянник Франсуа, он только что вернулся из агитационной поездки.
— И потом не будет голодных, — закричал маленький Антуан, прижимаясь щекой к бороде Ружмона… — и на крышах будут луга и стеклянные мостики.
Все засмеялись, и сойка стала подражать звону колоколов-карликов.
— Это Христина Деланд, наша соседка, — сказала старуха.
И это имя запечатлелось в сердце Франсуа, как запечатлелся облик молодой девушки. Запечатлелся, потому что это было в один из тех часов, когда впечатления оставляют глубокий след, как лапки птиц в мягкой глине. И в самом появлении Христины было что-то загадочное, так же как в ее презрительной усмешке и в том, что как бы случайно их взгляды скрестились.
— Вы верно не революционерка? — добродушно усмехаясь, спросил Франсуа.
— В самом деле? Почему вы так думаете? — живо спросила Христина.
— Я это чувствую.
— Вы не ошиблись, отрицать не буду, нет. Это верно: я не коммунистка, не революционерка и не патриотка. Но, что я социалистка, это возможно…
В ее голосе была та, чуть заметная, хрипота, которая придает низким контральтовым голосам какую-то особо чарующую страстность. Ее прекрасное лицо оживилось. Задорная страстность заставляла как-то особенно отчеканивать слова.
— Нельзя быть социалистом, не будучи коммунистом и революционером, — спокойно возразил Франсуа. — В крайнем случае, можно быть патриотом, хотя патриотизм — это тайное оружие буржуазии: оно отравляет, притупляет и убивает в человеке волю.
— Почему? — запальчиво перебила его Христина, — почему же нельзя быть социалисткой, не пользуясь непременно коммунистической лавочкой, и не принимая участия в революционной бойне?
— Потому что, если социализм не имеет целью разрушение капиталистического строя, то он есть не что иное, как паллиатив.
— Я не понимаю. Я не вижу, почему не допустить возможности соглашения, с одной стороны, а с другой стороны, также и того, что рабочие могут постепенно отвоевывать свои позиции. Вам непременно нужна война, злоба, ненависть, разрушение, вы, как будто воображаете, что буржуазный класс образовался по собственному желанию и из какой-то дьявольской прирожденной злости обрекает на нищету рабочий класс. Мне кажется — это слишком много чести для врага. Эксплоататор не лучше и не хуже других людей: он явление случайное и действует под давлением случая.
— Мы не желаем больше никаких случайностей.
— Это крик полного невежества.
— Почему? Наука каждый день опровергает случайность явлений. Она овладевает всей нашей планетой. Уже теперь она дает нам возможность производить, затрачивая в десять раз меньше сил.
— Наука? Да, при условии, если она будет обслуживаться не такими людьми, как теперь… такие еще не родились.
— У нас будут такие.
— У кого, у вас: у вождей синдикалистов? Да все ваши программы мог бы написать любой школьник.
Оба замолчали. И в наступившей тишине оба смотрели друг на друга с недоверчивым любопытством. В туманном будущем он видел нарождение новых, полных радости жизни людей. Христине же рисовались картины столкновений различных сил, столкновений ярких, как искры, вылетающие из кузнечного горна и легких, чуть чувствительных, как электрический ток.
— Вот и брат мой вернулся, — прислушиваясь, произнесла молодая девушка.
Она поцеловала маленького Антуана и удалилась тем же решительным шагом.
— Кто она такая, — спросил Ружмон, как только дверь за ней закрылась.
— Это, — сказал Гарриг, — сестра Марселя Дёланда… Он механик, организатор "желтых" синдикатов. Он, говорят, очень смелый и легко ведет дело… в Биери: не думаю, чтобы ему удалось что-нибудь сделать в Париже.